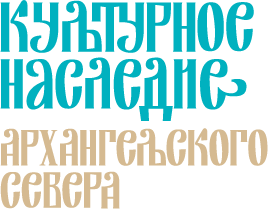Сказители и собиратели
Русский Север в конце XIX века имел славу главного очага эпической народной поэзии. Основные очаги эпического творчества были обнаружены только на европейском Севере, преимущественно на Русском Севере.
Предпринимались экспедиции за этими редкими произведениями. Но, для Русского Севера не было характерно сплошное бытование былин, Архангельский Север располагал лишь отдельными местами былинного эпоса. Никогда не находили былин на Северной Двине. Но зато на Печоре, в бассейне Пинеги, Кулоя, а также на побережье Белого моря эпическая поэзия еще была жива. История открытия и собирания северных былин настолько показательна, что следует остановиться подробнее хотя бы на некоторых ее моментах.
В марте 1859 года в Олонецкую губернию на правах поднадзорного ссыльного прибыл студент Московского университета Павел Николаевич Рыбников. Сослан он был за проявление глубокого интереса к «крестьянскому вопросу и жизни закрепощенного народа». В первый же год пребывания в Карелии он опубликовал в «Олонецких губернских ведомостях» былины и песни, записанные у крестьян-поморов. За месяцы и годы собирательской работы П. Н. Рыбников от тридцати сказителей записал свыше 200 былин, проехав для этого от Петрозаводска через Заонежье до границ Архангельской и Вологодской губерний. Результатом этой работы явилось 4-томное собрание «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (М., 1861–1867). Сохранились свидетельства о том, какое оглушительное впечатление произвели публикации П. Н. Рыбникова на большой ученый мир в обеих российских столицах.
После этого Русский Север обрел славу главного очага эпической народной поэзии и уже не оставался без внимания собирателей фольклористов. В 1871 году по тем же местам Карелии за былинами едет русский ученый из Петербурга известный этнограф и историк А. Ф. Гильфердинг. Его собрание «Онежские былины», записанное в 1871 году, подтвердило находки П. Н. Рыбникова.
Перед наукой открылись еще более широкие перспективы в изучении эпоса. Начиная с 90-х годов исследования ведутся уже по соседству с Карелией — в Архангельской губернии, на Печоре, в бассейнах Пинеги, Кулоя, а также на побережье Белого моря. В результате этой собирательской работы один за другим появляются новые сборники: «Беломорские былины» А. В. Маркова (1901), «Архангельские былины и исторические песни» А. Д. Григорьева, том 1 (1904), «Печорские былины» Н. Е. Ончукова (1904), а в 1916 году увидел свет сборник былин пинежанки М. Д. Кривополеновой «Бабушкины старины», подготовленный О. Э. Озаровской.
Эти собиратели утверждали мысль о народности былин. Северные крестьяне были не только земледельцами, охотниками, рыбаками — в свободное от этих работ время они «занимались мастерством, благоприятствующим сохранению эпических песен»: плетение сетей, изготовление снаряжения для охоты и рыболовства, портняжное и сапожное мастерство давали им возможность часами сказывать и слушать былины. На Европейском Севере России пение былин не было коллективным. Эпические песни знали и исполняли немногие знатоки, которых называли «сказителями». Говорилось — былину «сказывать» или «пропевать». Они не пелись, а исполнялись в духе речитативов. В этих лучших былинных текстах предстают герои-богатыри, которые несут идею справедливости, личной свободы, воссоединения русских земель. Каждый сказитель считал себя обязанным спеть былину так, как сам ее слышал, традиционно.
Знакомясь с заметками северных фольклористов, можно почувствовать, как расположены они к певцам, как стараются подчеркнуть уважение к их памятливости и талантливости. А. Ф. Гильфердинг «ввел обыкновение располагать записываемые тексты былин не по сюжетам, а по сказителям, сообщать краткие биографические сведения о них и характеризовать особенности индивидуального репертуара и индивидуальной манеры исполнения» (Онежские былины А. Ф. Гильфердинга, СПб., 1873 г.). После него это стало всеобщим правилом. Основное в этих материалах — сами былины, сами былинные тексты, записанные в полных, не разрушенных содержательно и поэтически выдержанных вариантах. Они сразу же стали классикой и непревзойденными являются до сих пор.
В течение нескольких лет студентами Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ПГУ) предпринимались экспедиции на Кенозеро (Плесецкий район Архангельской области), где так успешно работал столетие с небольшим назад А. Ф. Гильфердинг. Он писал, что «крестьяне и крестьянки, поющие былины, насчитываются здесь десятками; поют и старый, и малый».
«Открытые» фольклористами олонецкие сказители, среди которых были отец и сын Рябинины, И. Федосова, В. Щеголенок, не раз выступали в Петербурге, Москве и многих других городах России с пением былин. Их исполнительское искусство было так ошеломляюще ново, так ярко национально, что не прошло мимо крупнейших русских композиторов, художников, писателей.
Речитативы северных былин «осели» в русской симфонической музыке. Достаточно напомнить о прямом цитировании северных былинных напевов в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского, «Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова.
Состояние науки к началу нового XX века предъявило новые требования к экспедиционной работе. Время энтузиастов-любителей проходило. Экспедицию должен был возглавлять человек широко образованный, который мог бы сочетать в себе и навыки собирателя-полевика, и осведомленность в теории изучаемого предмета. Это было первое требование, и ему отвечали фигуры А. В. Маркова (1877–1917), молодого ученого, только что окончившего Московский университет и студента А. Д. Григорьева (1874–1940).
А. В. Марков основательно и целеустремленно изучал беломорский фольклор. За первое десятилетие века он совершил к Белому морю около 10 поездок. Экспедиция оснащалась техническим звукозаписывающим средством, передающим звучание, особенности языка, и наконец, нужен был хороший фотограф, который бы выполнял задачу этнографии, отразил бы в фотографиях костюмы, быт людей, устройство их жилища, архитектуру построек. Вот по этому принципу была скомплектована третья экспедиция А. В. Маркова (всего их было три). Ведь требовалось не только записать текст от исполнителя, а пронаблюдать, как этот текст естественно живет в повседневности, труде и отдыхе, праздниках и буднях народа. В итоге в третью поездку помимо А. В. Маркова (филолога) на Север отправились: музыковед А. Л. Маслов, этнограф и фотограф-любитель Б. А. Богословский.
Уже первая экспедиция А. В. Маркова открыла новый былинный очаг на Русском Севере — Терский берег. Было записано 70 былин, а также духовные стихи, сказки, все разновидности песенной лирики. В первом сборнике «Беломорские былины, записанные А. В. Марковым» (Москва, 1901) разместились, как оказалось позднее, лучшие образцы беломорских былин (записи велись в семье Крюковых и др.). Во второй поездке 1903 года он вернулся в районы Поморья. Здесь он собрал 40 былин и 50 духовных стихов. Ему принадлежит честь открытия былинной традиции на Зимнем, Терском, Поморском и Корельском берегах Белого моря.